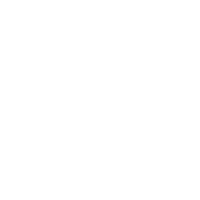«Ему было дело до моей души…». Воспоминания протоиерея Игоря Прекупа об отце Владимире Залипском

«Ему было дело до моей души…»
– Знаешь, Игореш, говорят, в соборе Александра Невского есть такой отец Владимир. Все после разговора с ним такими просветленными уходят… Тебе бы к нему сходить, посоветоваться о своих проблемах, – как бы размышляла вслух натурщица Майя, во время одного из чаепитий в мастерской моего сокурсника.
Ее слова мне показались тогда очередной блажью скучающей девичьей души. Помнится, я посмотрел на нее с искренним недоумением:
– А что он мне может посоветовать? Я же не…, – замялся я, пожимая плечами и подыскивая подходящее слово (назвать себя неверующим язык не поворачивался уже с детства). – У меня же другое мировоззрение.
Майя тактично не стала меня агитировать, предоставив дальше плыть по течению навстречу все новым и новым роковым ошибкам молодости. С какой тоской я вспоминаю по сей день, что не прислушался к ее словам!.. Но откуда мне, в то время двадцатиоднолетнему студенту художественного института, со специфической командой тараканов в голове, было представить, что к отцу Владимиру приходят люди самых разных «мировоззрений», и он с каждым умеет разговаривать на его языке?..
Голос, сильный кротостью
Наша с ним встреча состоялась где-то через год с лишним, когда я, как тогда думал, распутал (а на самом же деле разорвал) свои жизненные коллизии и начинал жизнь с чистого листа. Встретиться с ним я решился на волне духовного поиска, все более настойчиво прибивавшей меня к православному берегу, а также потому, что мой сокурсник Паша Попов (спустя годы – о. Павел), который, в отличие от Майи, не страдал излишней тактичностью, настойчиво советовал мне это в течение нескольких месяцев. Но не только. В руки мне попалась распечатка проповедей о. Владимира, удививших меня простотой, человечностью и абсолютным отсутствием занудного морализаторства, строго ассоциировавшегося у меня в то время со словом «проповедь», от которого как бы тянуло затхлостью и плесенью вперемешку с театральной интонацией.
Внешний вид прот. Владимира Залипского при первой встрече меня уже не удивил, потому что полностью соответствовал тем самым, ломающим все стереотипы, проповедям: высокий, худощавый интеллигент, словно сошедший со страниц чеховских рассказов. Потом, со временем, я заметил в нем и другое сходство – с изображениями святых в древнерусской иконописи: такая же внутренняя подтянутость, собранность, мир, кротость и любовь.
Вскоре после беседы с ним я крестился и начал ходить в собор. Причащался на буднях, когда батюшка исповедовал, а когда он служил, я приходил ежедневно к концу службы, чтобы услышать его проповедь. Если бы не эти проповеди и дальнейшее общение с батюшкой, я, без сомнения, стал бы одним из многих, блуждающих «с Богом в душе» в поиске «духовности» по стремнинам ньюэйджевских фантазий и считающих, что традиционный церковный путь – это «для людей убогих, лишенных творческой жилки, а потому нуждающихся в институционализированной религиозности (да ради Бога, если это кому-то помогает!), в отличие от нас – людей творческих, с ярко выраженной индивидуальностью и тонкой организацией души».
Его проповеди были, с точки зрения стандартной гомилетики, на первый взгляд, порой даже неуклюжи: батюшка иногда начинал говорить сбивчиво, спонтанно вспоминал какой-то эпизод (в итоге выяснялось, что очень даже к месту), нередко голос пресекался от слез. При этом не было никакой театральности или невротической эмоциональности, сентиментальности, взбудораженных интонаций – ничего подобного. «Его голос силен кротостью», – сказала как-то одна студентка с психфака ЛГУ. Как точно! Именно так. Благодаря его голосу можно было узнать очень многое о христианстве. Например, что кротость – это сила, добродетель, требующая колоссального мужества.
Согреть «ходока»
Он рассказывал о святых, чьи памяти праздновались, и ты понимал, что он не пересказывает, а делится опытом. Он говорил о Духе Святом, и ты понимал, что он знает, о Ком говорит, что он с Ним лично знаком, хотя и не афиширует, а как бы проговаривается. Он рассказывал о лукавстве бесовском, о кознях нечистой силы, отравляющей наши взаимоотношения, и ты понимал, что Господь с тобой, что стать бесовской добычей ты можешь, только если смалодушничаешь и поведешься на их уловки, уступая в своем сердце чуждым Христу помыслам. Так что вся ответственность на тебе, а не на соблазняющих обстоятельствах, людях или бесах.
Вспоминая о нем, одна добрая душа сказала: «Его портрет надо бы писать светом!» Батюшка все время, хотя бы чуть-чуть, хоть одними глазами улыбался, разговаривая с человеком, выслушивая его, расспрашивая, советуя что-то, пожимая руку, ласково поглаживая и похлопывая через епитрахиль при чтении разрешительной молитвы. Я знал, что он себя часто плохо чувствует, что ему не до любезности, а вот ведь – улыбается. Помню как-то раз я даже смутился: ну к чему это, видно же, что через силу… Что-то мне показалось в этом искусственным, неискренним. Видно же, что плохо себя чувствует, что ему ни до кого сейчас и не до улыбок! А потом понял, что через силу-то через силу, но искренне. И я зря подумал, что «ни до кого». Независимо от самочувствия, его улыбка выражала искреннюю радость встречи с человеком, приближающимся к аналою с крестом и Евангелием, а значит – ко Христу. Однако мало радоваться внутренне, надо согреть этого «ходока» чем Бог послал, а Бог послал нам способность улыбаться и говорить добрые слова. Вот он и улыбался, и слова добрые говорил; иногда шутливо, деликатно-иронично направляя мысль собеседника и всякий раз тепло поздравляя его после исповеди с очищением совести, добавляя: «Положим начало покаянию».
Когда он разговаривал, не улыбаясь, это воспринималось как холодный душ. За все время, что мы общались, я помню только пару случаев, когда он повысил тон в общении с кем-то. Нет, не прикрикнул даже, а прозвучал чуть жестче, чем обычно. И все.
Это у него было из семьи. У них дома всегда разговаривали очень спокойно, тихо, ровно настолько, чтобы собеседник слышал и понимал. Возможно, сказывалось немецкое происхождение с примесью английской королевской крови его матери Валентины Васильевны.
«Без розового сиропчика»
У него было прекрасное домашнее воспитание. Будущий пастырь рос мальчиком дружелюбным, веселым, раскрепощенным (но не развязным). В нем удивительным образом совмещалось естественное детское озорство с какой-то вневозрастной вдумчивостью. Уже в ту пору он отличался ясным умом, но никогда в нем не было рассудочной холодности. Природная склонность к логичному, трезвому мышлению служила лишь средством, уравновешивающим пылкость его чуткого и сострадательного сердца, подобно тому, как он сочетал увлеченность шахматами с игрой на скрипке.
Его душевный склад очень хорошо характеризуется одним эпизодом, произошедшим во время войны, когда Володя был уже юношей.
В Эстонии в Клоога был концлагерь, руководство которого разрешило желающим брать детей на воспитание. Пришли с этой целью и Залипские. Когда родители начали присматривать ребенка посимпатичней, Володя обратил внимание на одну маленькую, одинокую, больную и крайне неухоженную девочку: «Красивых-то возьмут, – сказал он родителям, – а она… такая, кому нужна?» И девочка была спасена. Ее взяли в семью, выходили и вырастили.
Вот это отношение к немощным, «трудным» (во всех отношениях), «хлопотным», с которыми другим неохота, а то и брезгливо связываться – типично для него. Постоянно к нему ходили какие-то странные люди, у которых словно из ушей тараканьи усы торчали, и он каждого принимал, находил такие слова, что человек приходил снова и снова, и усы из ушей все меньше выглядывали, а потом и вовсе тараканы мало-помалу выводились. Или, по крайней мере, их поголовье сводилось к минимуму. Было заметно, что с проблемными он особо возится и как-то старается поддержать: то просфору даст при целовании креста, то иным каким-то образом особое внимание уделит, но при всей его виртуозной деликатности, обходящей острые углы и каким-то феноменальным образом не наступающей на «больные мозоли» – никакого заискивания, или, как он говорил, «розового сиропчика».
Обличение без ухищрений
Он никогда не обличал без необходимости, или же если человек не был готов извлечь из обличения пользу. Как-то, помню, спустя где-то год после нашего знакомства, пришел я к нему домой с вопросом:
– Отец Владимир, верно ли, что вы говорите каждому не то, что думаете, а только то, что он сам хочет от вас услышать?
– …Это не так. Я говорю всегда то, что думаю, но могу чего-то не сказать, если вижу, что человек не расположен меня слушать, и то, если речь не «о жизни и смерти». А если «о жизни и смерти», то скажу и повторю, и раз, и два, и сколько надо повторю», – ответил он. Затем, на секунды две задумавшись, добавил: – Впрочем, если уж быть до конца откровенным, то… – и батюшка выдал мне сокрушительную новость о своем неодобрении одной моей жизненной ситуации, после чего быстренько выставил меня, оторопевшего, на лестничную клетку, осмысливать проблему, неожиданно представшую во всей своей трагичной неподъемности. «За что боролся…», как говорится.
Если уж батюшка обличал, то делал это настолько просто и без ухищрений, что все вставало на свои места почти без боли. Например, бывало, жалуется ему одно обиженное чадо на другое – обидевшее, описывает ситуацию, батюшка слушает, наклонив слегка голову набок, понимающе покачивает ею, вздыхает и говорит:
– Ну да… конечно, понятное дело, самолюбие наше…
Чадо, ожидавшее услышать слово поддержки, сначала недоумевает. Потом до него постепенно доходит, что пора бы уже и на практике закрепить все, что довелось в батюшкиных проповедях услышать о самоукорении, о поиске причины своих проблем в себе, о назамедлительном прощении обид, не дожидаясь пока обидчик что-то осознает или хотя бы сожаление выразит. Мало-помалу обиженное чадо понимает, что не будет никакого толку, если о. Владимир станет с ним анализировать, в чем состояла чья-то неправота. Ну, допустим, утешится чадо, успокоится, но самого главного-то и не увидит: что болит душа его не столько потому, что кто-то себя плохо повел, сколько потому болит, что… больна!
Ведь святые, о которых рассказывал в своих проповедях отец Владимир, будучи душевно здоровыми людьми, не обижались. Их душа тоже могла болеть, но по-другому (впрочем, и у них свои немощи были); они и заплакать могли, но не от обиды за себя, а, например, от жалости к обидчику, из сострадания к его душе. А охватывающая нас обида показывает, что душа больна греховными страстями, в частности, страстью самолюбия, о которой батюшка и упоминал (что, разумеется, не оправдывает жестокой бестактности, с которой люди иной раз касаются чьей-то истерзанной души). Страсть – это рана, язва души. Ничего удивительного в том, что прикосновение к ране вызывает боль. Но если душа больна, значит, ее лечить надо. Чем? Покаянием. А поскольку, с одной стороны чадо нуждается в подсказке, а с другой – достаточно созрело, чтобы отеческое замечание не травмировало его еще больше, вот батюшка и обличает, то есть делает явным (для обличаемого) грех, который надо искоренять, чтобы душа мало-помалу оздоровлялась или, что то же самое, спасалась. Батюшка умел выждать, пока нарыв созреет, затем стремительно и максимально безболезненно его вскрыть, обработать рану и тут же перевязать.
Аналогичная ситуация могла повторяться неоднократно с одним и тем же чадом до тех пор, пока оно не привыкало, вовремя замечая в своем сердце щемящую обиду, раздражение и прочие «естественные реакции», не путать причину с поводом, но усматривать причину в себе, каясь пред Богом за свое самолюбие, гордыню, тщеславие и прочие «тернии», подавляющие в нас семя Его слова.
Работа с микроскопом
«Христианство – это работа не с телескопом, а с микроскопом», – любил повторять о. Владимир. Он очень много внимания в своих проповедях уделял жизнеописаниям древних подвижников, посвятивших себя уединенной и созерцательной жизни, их мыслям, советам, время от времени повторяя, что «монашество – это подчеркнутое христианство». Проповеди о. Владимира, воспитывая в благоговейном почтении к святоотеческому авторитету, формировали ясное представление о том, что аскетизм – это лишь средство, а не суть или цель монашества. Цель же – формирование добродетелей, а к этому призваны все христиане, независимо от социальной, национальной или иной земного плана принадлежности или духовного поприща.
Сущность монашества раскрывалась батюшкой, как особый путь всецелого посвящения себя общей цели христианской жизни, а потому в его среде исключительно интенсивно культивируется не только бесценный опыт познания высших и вечных ценностей, но и опыт преодоления всевозможных искушений и соблазнов, общих всем христианам, независимо от специфики спасительного пути. Почитание святых подвижников – это в первую очередь посильное им подражание, приложение их жизненного примера и наставлений к своей личности: к собственному состоянию души и своему отношению к Богу, к себе и ближним.
Поэтому о. Владимир в проповедях и личных беседах очень часто обращал внимание на ценность простоты во Христе и необходимость «хранения совести». «Где Бог – там свобода», – любил повторять он (ср.: 2 Кор. 3: 17). Первоочередная забота его была не о том, чтобы чада овладели навыками внешнего благочестия, а чтобы они осознанно, по велению совести, не будучи принуждаемы внешними обстоятельствами или чьим-то давлением, делали богоугодный выбор, вследствие которого в душе созревал бы плод добродетели. И если чадо проявляло неготовность что-то понять, он, как правило, не торопил, не подстегивал, но осторожно намекал от случая к случаю, располагая задуматься и самостоятельно прийти к пониманию ситуации. И, конечно же, молился.
Собственно, по его молитвам человек и приходил к пониманию элементарных на первый взгляд вещей. Настолько элементарных, что никакими силлогизмами их было не втолковать. Логика ведь бессильна, когда речь идет об очевидном. Очевидное недоказуемо. Его либо видят, либо нет. Чтобы очевидное-невидимое стало видимым, оно должно предстать в неожиданном свете или ракурсе. По молитвам о. Владимира так и происходило: или некая последовательность событий как бы сама подводила к верному выводу; или встречался заблудшему чаду какой-нибудь человек, который невольно отвечал на тайно мучивший его вопрос; или вдруг что-то в душе, как лед по весне, треснет и слезами словно смывало с души, казалось бы, непрошибаемое погибельное состояние, после чего видение ситуации как-то «само» менялось.
Бережное отношение о. Владимира к совести исходило не только из благоговейного отношения к свободе воли как богоподобной черте, но также из понимания, что если пренебречь совестью, не воспитывать ее, а пытаться наставлять человека на истинный путь, принудительно «открывая ему глаза», то в каком-то конкретном случае тот, быть может, что-то и осознает, в чем-то исправится, но совесть его будет покалеченной и беспомощной, униженной и безвольной. Батюшка ясно осознавал, что отчуждение воли и послушания от совести приводит к тому, что последняя атрофируется и формируется тип «бессовестного праведника», иными словами – фарисея – человека, которому рассудок, оснащенный знаниями, и способность ориентироваться в коньюктуре и нормах корпоративной морали успешно заместили совесть.
Отец Владимир не спешил обличать, «вправлять мозги», потому что ситуацию-то изменить можно, но ведь в жизнь вечную пойдет не ситуация, а душа. Душе же намного больше пользы будет, если она к пониманию, что следует и чего не следует делать, придет изнутри: не вследствие чьего-то замечания или, тем более, угрозы, принуждения, а через совесть. Именно так он объяснял смысл длительного терпения аввой Дорофеем вытряхивания собратьями клопоносных ковриков у его кельи: ведь ему не составляло труда сделать им замечание, и они подыскали бы себе другое место, но это никак не отразилось бы на их сердцах; какими они были до этого, такими бы и остались. А так, по его молитвам, в их душах ожила совесть, произошла важная перемена, благодаря которой до них, наконец, дошло, что нехорошо они поступают, и они сами прекратили досаждать собрату. Вот, ради этой спасительной перемены, которая дорогого стоит пред Богом, святой подвижник, как объяснял о. Владимир, и терпел долгое время скорби от периодических нашествий кровососущих Божиих тварей, кротко перенося пренебрежительное отношение со стороны тех, кто должен был, по идее, соревноваться с ним в братолюбии.
«Это как-то искусственно»
«Любовь к Богу познается через любовь к ближнему, – неоднократно говорил он, – а любовь к ближнему – через смирение». Вот так просто… Помню как-то раз после вечерней проповеди (по окончании вечернего богослужения о. Владимир обычно тоже проповедовал) зашел он в алтарь и задумчиво говорит:
– Вот у апостола Петра в послании сказано: «Пасите стадо, какое есть» (ср. 1 Петр. 5: 2). А я посмотрел на людей и мне подумалось: «Терпите пастырей, какие есть». Ну, это я, конечно, о себе в первую очередь.
Он и в самом деле – о себе. Батюшка не кокетничал смирением, не надувался пафосом, вообще никакой личины на себя никогда не натягивал и своим чадам старался привить вкус к естественному поведению, искренности и простоте. «Знаете, это как-то искусственно», – бывало, отвечал он кому-нибудь советующемуся с ним о своих намерениях. И как-то сразу понятно становилось, о чем он: продуманность слов и действий хороша, но, когда в области человеческих взаимоотношений она превышает меру, определяемую исключительно совестью, происходит что-то противоестественное. То же касается и осмысления человеком в свете Священного Писания и Предания происходящих с ним или с другими людьми событий: некоторым людям свойственно, рассматривая все происходящее сквозь призму своих представлений о духовной реальности, впадать в крайность и упускать из внимания естественные причины событий или отношений, настроений. Зачастую это не что иное как подсознательная попытка уклониться от работы над какими-то своими внутренними недостатками, от трезвого анализа сложившейся ситуации и принятия ответственных решений.
В этой «искусственности» всегда содержится лукавство, подмена, потому что, хотя и свои внутренние переживания, и окружающую реальность непременно следует рассматривать в свете Божественного Откровения – это верно, только одно дело стараться что-то или кого-то в этом свете понять, другое – интерпретировать, не обременяя себя ни искренностью (ведь искренность располагает к отзывчивости, а понятое может внезапно оказаться исключительно неудобным), ни трудом, необходимым для понимания.
У «начитанного» религиозного человека всегда есть соблазн «избирательного подхода» к пользованию Священным Писанием, житийным материалом и святоотеческими наставлениями: соблазн извлекать из этой сокровищницы фрагменты, «подходящие» для аргументации позиции, составленной по каким-то своим соображениям, и направлять лучи Божественного Откровения для высвечивания реальности «в нужном ракурсе».
Чуждый этой «искусственности», о. Владимир очень чутко на нее реагировал и, несомненно, глубоко переживал, когда видел, что человеку бессмысленно на нее указывать, потому что тому удобней видеть причину своих неприятностей в бесовских кознях, в их мести за духовные подвиги и добрые дела (что, разумеется, тоже не исключается), в том, что «мир во зле лежит», чем в собственной же глупости, невежестве, злобности, грубости, бестактности, невнимательности (в том числе и в деле воспитания детей), распущенности, лени, навязчивости, малодушии, своекорыстии – и в прочих издержках наследственности и воспитания, исправлять которые ох, как не хочется… потому что, по большому счету, нет дела до души. Ни до своей, ни, тем более, до чужой.
А вот о. Владимиру было дело.
«Меня там одна душа ждет», – говорил он о человеке, пришедшем на беседу.
«Ему было дело до моей души!» – сказал батюшка на отпевании своего духовного отца – прот. Валерия Поведского. Эти же слова повторил один из окормлявшихся у него священников над горой цветов, покрывавших его могилу.
Вечная память доброму пастырю!
Автор текста: протоиерей Игорь Прекуп